Борис Гаврилович Голубовский
- 04 Jun 2024
- Музыка, театр, кино
- 415 Прочтений
- 0 Комментариев
Его величество Режиссер
Старейший факультет ГИТИСа. В театре ХХ века режиссер стал центральной фигурой, а посему факультет, который готовит таких специалистов, является важнейшим. История факультета знает разные периоды. В его экзаменационных ведомостях — это относится и к студентам, и к педагогам — стоят звездные имена, составившие славу русского театра. Нынешний облик режиссерского факультета сложился, когда кафедру режиссуры возглавлял Андрей Александрович Гончаров. Разговор о прошлом и будущем факультета мы начали с Борисом Гавриловичем Голубовским - профессором, народным артистом России.
— Борис Гаврилович, вы пришли в ГИТИС в 1936 году, в то зловещее время, которое в нашем сознании связано с репрессиями. Как это время ощущалось в стенах ГИТИСа? В своей книге «Большие маленькие театры» вы ничего об этом не пишете. Атмосферы страха, действительно, не было?
— Мы ее не ощущали. Мы лишь чувствовали настроение наших педагогов. А сами просто были счастливы. Потому что были молоды. Потому что жили совсем другой жизнью. Надеялись на красивое будущее. Смеялись по поводу этих статей в «Правде», по поводу диспутов о формализме. Нам было немного стыдно за своих учителей, когда они выступали и каялись во всех смертных грехах. А почему это происходило, мы по-настоящему не понимали. Иногда я читаю в каких-то воспоминаниях, что все понимали, мне просто хочется сказать: «Не валяйте дурака! Ничего вы не понимали!» Понимал Попов Алексей Дмитриевич. Понимали Дикий, Каверин. Люди старшего поколения. А я и мои сверстники были патриотами, причем патриотами искренними. Нас было трое самых молодых главных режиссеров в Советском Союзе: Гончаров, Валя Невзоров, тоже мой однокурсник, и я. Андрей к тому же еще был директором театра фронтового. Мы вступили в партию на фронте. А в восьмидесятые годы начался массовый выход из партии с песнями, так сказать, со знаменами. Мы понимали, что вступили в партию в 1942 году, и никто ни тогда, ни теперь, не может нас упрекнуть в карьеризме, в конъюнктурщине, потому что не до того было. Таким образом, с кем мы вступали, — понятно. А с кем рядом мы будем выходить из партии? Помню, разбирали на партийном собрании девочку, которая окончила школу в прошлом году. Проучилась полгода на театроведческом факультете и написала заявление, что она хочет отдать все свои силы строительству коммунизма. А через три месяца она решила не строить коммунизм и уйти. Так мне рядом с ней выходить? Вообще война для нас была вторым ГИТИСом.
— В каком смысле?
— А в смысле обучения жизни. Хотя и профессии тоже. Например, у нас был фронтовой театр миниатюр «Огонек». Он даже попал в энциклопедию Великой Отечественной войны. Когда мы поехали на фронт, нам пошили полувоенные костюмы, сапоги хорошие выдали всем, включая женщин. Выступаем. После ко мне подходит комиссар средних лет и говорит: «Слушай, выбрось ты все эти костюмы. Пусть женщины наденут платья с декольте, чтобы плечи их увидели. И потом не надо нас агитировать бить фашистов». Мы поняли, что людям нужно другое, они и так отдают этому жизнь.
Был такой замечательный педагог Елизавета Сергеевна Телешева. Кстати, она была женой Эйзенштейна последние годы. Я начал работать ассистентом у нее на курсе. Дело происходило в Саратове, куда ГИТИС эвакуировался во время войны. Ректором в Саратове (наш ректор ушел на фронт) стал Иосиф Моисеевич Раевский из МХАТа. Золотой человек. Его отличали такт, интеллигентность, организованность, никакого крика. Так вот на этом курсе Телешевой я ставил «Ночь ошибок» Голдсмита, их дипломный спектакль. Он стал и моим дипломным спектаклем. И у нас родилась мысль: поедем на фронт с двумя спектаклями — «Парнем из нашего города» Симонова и «Ночью ошибок». Иосиф Моисеевич увлекся этой идеей, пробил ее через комитет искусств, который тогда возглавлял Храпченко… И был создан комсомольский фронтовой театр ГИТИСа! А кто будет руководителем? Режиссеров в Саратове нет. Говорят: «А пусть Боря Голубовский возьмет».
— Сколько вам было лет?
— Двадцать два.
— Фантастика!
— Так Андрею Гончарову было всего лишь на год больше. Вале Невзорову тоже было двадцать три. Но вернемся к фронтовому театру… На том курсе училось больше двадцати человек. Это много. И в результате получилось так: Раевский взял основную часть труппы, поставил «Человека с ружьем», который, правда, успехом не пользовался. А я организовал «Огонек», где у меня было восемь ребят. Один из них негр. Он тоже учился в ГИТИСе. Приехал из Америки — Мейерхольд пригласил его играть Отелло. Но Мейерхольду потом стало не до него, и он поступил на режиссерский курс. Они вместе с женой, певицей-испанкой, работали у меня в театре. Были, конечно, драматические актеры: Володя Балашов, Федя Липскеров, Галя Гонтарь. Нас отличала мобильность. Нас подстегивало ощущение своей нужности, необходимости искусства. Адреналин, понимаете. Такому пониманию роли искусства нас учила война.
Помню, Андрей Гончаров поставил спектакль «Жди меня». Сентиментальный! Потом, когда его играли в Москве, смотреть было нельзя. А на фронте воспринимался как молитва. Именно как молитва! Такие вещи всегда надо учитывать.
— Где вас застал период борьбы с космополитизмом?
— Я был в тот момент в самой горячей точке — на радио. Вы прочтете в моей книжке потрясающую историю. Началась борьба с космополитизмом. Каждую неделю собиралось все начальство и слушало отчет руководителей отделов. Отделов огромное количество. После таких слушаний следовало исключение из партии, увольнение с работы, черные списки… Все как полагается. Сажали кое-кого даже. Хотя сажали в то время не очень много. Уже. Наконец, доходит очередь до моего отдела художественного вещания на зарубежные страны. Понятно, что выхода нет никакого. Председателем комитета был Пузин, а его первым заместителем был Лапин Сергей Георгиевич, о котором сегодня много говорят и пишут. Начинается. Все начальники отделов сидят, смотрят на нас с сочувствием, не со злорадством, понимая, что скоро будут на этом месте. Перед Пузиным лежит пачка наших материалов. Он произносит: «Вот радиопьеса Всеволода Вишневского, посвященная годовщине Октябрьской революции. Вот, товарищи, что пишет Всеволод Вишневский». Читает: «На безоблачном голубом небе вьется алый флаг». Товарищи, а представьте себе, мы записываем эту передачу, пускаем ее в эфир, а на улице идет дождь. Что говорят о советском радио?» И так идет разбор каждой фразочки. Ну что тут спорить? Сидим, молчим. Еще там была такая Сергеева — международная обозревательница, она потом редактировала журнал «Новое время». Она подходит к Пузину сзади и читает через его плечо: «Нет, вы послушайте, что там написано: „Простые советские люди, без шума и треска строящие социализм…“ Ну тут такой хохот начался. А я понимаю, что выиграл по трамвайному билету сто тысяч! Встаю и ухожу. Пузин: „Борис Гаврилович, вы куда идете?“ Я не отвечаю. „Товарищ Голубовский не любит критики“. Все хохочут. А я иду. Подхожу к дверям. Пузин: „Товарищ Голубовский, я предлагаю Вам остаться“. В самых дверях говорю: „Я не могу оставаться там, где издеваются над словами товарища Сталина“. И закрываю дверь. Это была раскавыченная цитата, а через две строчки — „как сказал великий гений Иосиф Виссарионович Сталин“.
— Браво!
— Дальше. Помните, был такой крупный спортивный обозреватель Вадим Синявский. Он рассказывал мне потом: «Ничего не понимаю. Ты выбегаешь из приемной Пузина, бледный, бежишь без пальто к милиционеру на выход. За тобой бегут Лапин, Зайцев, Чернявский, хватают тебя за руки и тащат обратно. Такого никто не видел никогда. Что произошло? А ты вырываешься и кричишь: „Я еду в ЦК. Мы разберемся…“
— Отлично!
— Ну, тут я дал слабину, честно признаюсь. Меня втащили обратно. Пузин сказал: «Ну, товарищи, все понятно с этим отделом. У нас есть две партийных оценки — „удовлетворительно“ и „неудовлетворительно“. Я предлагаю признать работу отдела удовлетворительной». Ничего история?
— Великолепная! Но вернемся в тридцатые годы. Арестовали Мейерхольда. Как в ГИТИСе студенты, которые его знали, для которых он был кумиром, во с приняли эту весть?
— С ужасом. А как же еще? Я видел его последний спектакль — «Одна жизнь». Мы все понимали, что этот спектакль выйти не может. При всем преклонении перед Мейерхольдом. Потому что это была трагическая, пессимистическая история… Это одиночество. Какой там коллектив? Один обреченный герой. Колоссальное впечатление! Одно из самых сильных впечатлений в моей жизни. А в этом жанре, пожалуй, единственное. Спектакль с гениальными режиссерскими прозрениями. Мы понимали, что идет какая-то кампания. Сначала отнеслись к статьям в «Правде» иронически, а потом ходили на дискуссии о формализме и видели, как наши преподаватели устраивали публичные «шахсэй-вахсэй»? Знаете, что такое «шахсэй-вахсэй»?
— Нет.
— На Востоке такой обычай. Они выходят полуголые с саблями и бьют себя изо всей силы саблями, ножами, кинжалами по голой груди, обливаются кровью, некоторые даже умирают. Я видел это в кинохронике. И у нас тоже выходил, например, Охлопков, начинал бить себя в грудь и говорить: «В моем творчестве еще есть остатки формализма, натурализма, буржуазного эстетизма. Я выпускаю сейчас „Отелло“ со всеми этими элементами». Ну, с места начинали кричать: «А зачем ты его выпускаешь, если сам видишь, что там все это есть?» Анекдот. Это было смешно. Конечно, мы не могли понять глубины трагизма всего этого. Был еще, например, еще такой случай, относящийся к тому времени. Я получал сталинскую стипендию. Это было безумно престижно. А кроме того, она составляла 500 рублей в месяц.
— Это много или мало по тому времени?
— Очень много. Ставка актера приличного была 250 рублей. А студенты получали 100 с чем-то. Мы получили стипендию за 4 месяца сразу. Причем со сталинской стипендии налоги не вычитались. Представляете, у меня, студента, вдруг 2000 рублей. А мечтой всех пижонов была пыжиковая шапка. Очень красивая, пушистая. Стоила она 120 рублей. Ну, имея 2000 рублей, я же мог себе позволить. И я ее купил. У нас курс был дружный, на курсе меня любили и решили устроить такой розыгрыш. Наш староста Жора Вардзиели стоял у входа в ГИТИС и, когда кто-то входил, он говорил: «Вы знаете, Боря Голубовский купил себе пыжиковую шапку». Кто-то острил, кто-то поздравлял. Наконец, идет Берсенев. Барин, красавец, шуба бобровая, шапка меховая бобровая, трость с набалдашником из слоновой кости, белый шарф. Аристократизм предельный. И Жорка к нему подбегает: «Иван Николаевич, Боря Голубовский купил себе пыжиковую шапку». Он говорит: «Да?» — и прошел мимо. Мы сидим на лекции у Алперса, вдруг открывается дверь в аудиторию и входит Берсенев. «Борис Владимирович, простите ради Бога, я прервал Вашу лекцию. Друзья мои, скажите, среди вас есть Боря Голубовский?» Я встаю. «Это вы купили себе пыжиковую шапку?» Я. «Поздравляю вас. Извините, Борис Владимирович». И уходит. Вот это была атмосфера института.
Все смотрели дипломные спектакли. Я играл в двух — в «Детях солнца» Горького и в «Красавце-мужчине» Островского. Все мастера смотрели. Потом высказывали свои мнения. Была даже идея перевести меня на актерский. Тарханов сказал: «Он хороший актер, пусть поиграет, а режиссером всегда успеет стать». Но наша режиссерская кафедра меня отстояла. Хотя это наверное было бы неплохо. Я бы поиграл.
Александр Смоляков
"Тот самый ГИТИС"
***




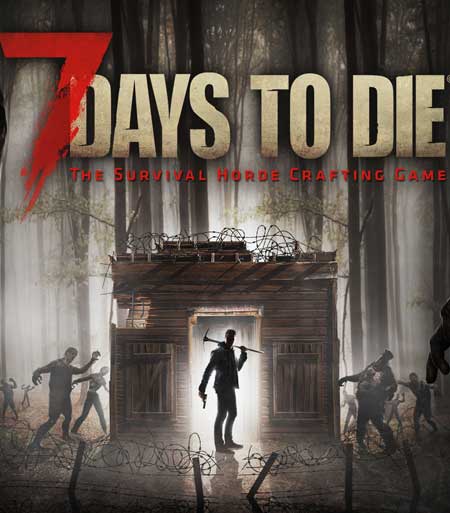
Letzte Kommentare
Artikel
Fotos
Eigene Seiten